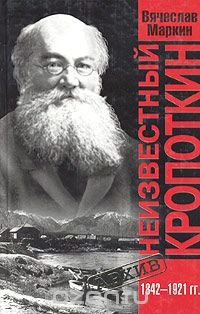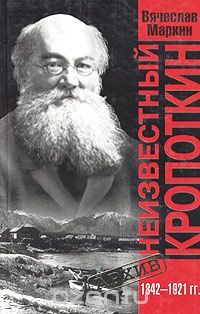Жажда немедленного соития покинула его сразу за порогом храма.
Они шли мимо лавок с сувенирами и картинами.
— Хочешь смотреть картины, Петя?
Он закричал:
— Устрицы!
Лавка воняла пучиной, среди накативших сумерек лотки жеманно блестели серебряным и красным — внутренностями моря, скользкими даже на глаз.
Сели на воздухе. Официант, шевеля пошлыми черными нитками усиков, принес два бокала белого вина и стальной подиум со льдом и раковинами. Петя поспешно втянул в себя шесть устриц подряд. Он запивал каждое тельце-сгусток нежным рассолом из раковины, каменная крошка хрустнула на зубах — и ее не стало. Люси подъедала темные ломти хлеба, разламывая и макая в стальной наперсток с малиновым уксусом. Она сказала, что не любит устрицы, она любит дышать ими — и только. «Забавно, — подумал он, — заученная фраза». Поблескивала ледовая арена, угловато смотрели в темноту разоренные жилища.
— Ты общаешься с русскими?
— Я дружу с чеченцами. — Люси допила вино. — Они парни. Беженцы. — Пустила дымок.
Петя спросил с надеждой:
— Злые?
— Со мной — нет. Они с другими злые. С цветными, с черными. Они их бьют и гоняют. Все время.
— Конкуренция. — Петя причмокнул.
— Со мной они хороши. Все другие у нас с девушками нехороши. Чеченцы хороши.
— А нехороши — это как?
— Если парень — француз или цветной, неважно, видит девушку, и она ему нравится, он улыбается и кричит: «Привет, красавица!» Но если я не ответ, он ругает. Это в метро, улица, везде. Он кричит: «Сука!»
— И никто не даст ему в дыню?
— Что это — дыня? — Оскал.
— Морда.
— О,нет! Никто не защитит. Разве чеченец. Чеченец может защитить. Петя, я плачу половина!
— Я плачу! Ты, что ли, спишь с ними? — Он отодвинул пустой бокал. — С чеченцами…
— Спаси Бог! — Она хохотнула, искупав лицо в фонтане дыма.
— Жаль, — пробормотал он.
Они миновали пылающий квартал багровых мошонок, зашифрованных под сердца. В дверях блондинка с тройным подбородком, в золотом мини, призывно гребла голыми ручищами к себе.
Свернули в темную улочку, где угол одного тихого дома нелепо отсырел, краснея окнами и огнями, — отголосок пройденного квартала, потом был совсем мирный проулок, без всякой красноты, и там, в тишине, в слабом луче городского фонаря чернели глухие железные ворота.
Люси наколола коготками цифры, пискнуло, вошли во двор. Петя поднял голову, глазами пробежал дом до крыши — этажей было восемь. «Внутри зеркальный лифт», — загадал.
Но в доме была деревянная лестница.
Сухая, грубая и скрипящая. Скудно освещенная. На каждом этаже светила голая лампочка из стены. На лестницу выходили окна: непроглядные, замутненные, толстые, в стеклянных узорах, как бывает у туалетов и ванн. Старая рассохшаяся лестница. Старая добрая врунья. Петя считал ступеньки. Пахло кислыми щами, именно кислыми, с квашеной капустой. Запах, казалось, шел от ступенек, и Петя разок наклонился, чтобы внюхаться. «Откуда здесь квашеная капуста?» — подумал, но спросил:
— Конечно, в детстве ты падала тут?
— Мы все время были в синяках. Я и сестра. Мы бегали друг за другом и падали, да! — Люси говорила, посмеиваясь и не оборачиваясь.
Она шла впереди, Петя — за ней. Ее яркие лакированные волосы болтались широко, в полусвете выглядели еще чернее, и смешливый голос доносился из волос.
— Как звали сестру?
— Катрин. Близняц?
— Близнец!
— Да! Она погибла. Два год назад. Разбила мотоцикл. Я ее любила очень. — Она говорила уже без смешка, но задорно, не меняя походной интонации. — Мы бегали утро и вечер. Бегали и бегали. А ты где бегал?
Остановилась.
— На даче. Тоже была лестница, — промямлил он.
Оконный проем слева вместо стекла скрывал серый брезент, порванный в верхнем правом углу. Дыра, по краям вытянутая, напоминала пентаграмму. Люси сунула палец в дыру, потом еще два пальца и пошатала брезент.
— Эта дырка двадцать лет! Я и сестра совали палец. Тут живет художница. Я всегда сую палец. Прохожу и сую! — И она снова пошла вверх, повторив: — Всегда!
Петя тоже сунул палец.
На пятом этаже они вошли к Люси.
Маленькая гостиная с компьютером и колонками. Через маленькую спаленку (во тьме бельишко белело на полу) Петя проник в маленькую ванную, пописал, сполоснул руки, плеснул в лицо. На пластмассовом подзеркальнике стояли тюбики крема. С одного неожиданно смотрел мужчинка, брея чернявую щечку, улыбочка жила и загибалась кровавым червячком на освобожденной чистой половинке загорелой мордочки. Петя выпрямился и задел плечом колокольчик, который, серебристый, рассыпался в причитаниях над узкой белой ванной.
В гостиной уже колыхался мрак, на круглом стеклянном столике трепетал огонек из парафиновой мисочки. Играл диск. Пел Высоцкий.
— Высоцкий. Русские все любят. — Она обнажила зубы и выразительно облизнулась. Достала серебряную шкатулочку. Извлекла глиняную горошину. Принялась разминать между пальцами.
«В общем, так один жираф влюбился в антилопу», — хрипел, восхищаясь причудами бытия, Высоцкий.
Люси улыбалась, переводя глаза с Пети на распушенную сигарету, напитывая табак земляной пылью.
— Люси, — сказал Петя, — у тебя много мужчин?
Она уже зажгла сигарету и лишь кивнула, к ней присосавшись, дым длинно полз по крошечному пространству.
Люси передала косяк Пете и шамкнула дымом:
— Ты первый русский.
Фильтр был в красной помаде.
— А где твои родители?
— Дуй! Был развод. Мама в городе Лиль. Дуй! Папа тут, латинский квартал. Они старые. Они родили меня в сорок. И в пятьдесят был развод. Дуй! Мы жили этаж ниже. Было три комнаты. Дуй!
Блики прыгали.
Люси положила босые ступни на столик. Петя докурил и теперь гладил эти ступни, внезапно увеличившиеся, и комната разрасталась, плыла, мягко и с перекатами, как река, пенно густеющая на порогах. Он сипло спрашивал: «Болят?» Болела левая, он гладил левую, мял правую и покручивал коленки под штанами. Он с кожаного кресла потянулся к телу, утопавшему в кожаном кресле напротив. Люси подобрала ноги. Петя перелез к ней и навалился, целуя. Она сжимала губы, он хватал ее за грудь, просунув пятерни под рубашку, но и она просунула свои пятерни и, заслонив большим и указательным пальцами, которыми еще недавно расплющивала гашиш, теперь берегла две горошины — два соска. Она сторожила границы интима. Эти соски были суверенны. Как две европейские страны.
Петя отполз обратно в кресло, светлые глаза его зло провернулись.
— Соски — это принцип? — спросил он, задыхаясь, будто все еще поднимался по лестнице.
— Ой… — Она повернулась к компьютеру, дотянулась и надавила.
Высоцкий запел по новой.
«Альпинистка моя, скалолазка моя», — зудел и лязгал Высоцкий, как туча прожорливой северной мошкары.
— Зачем все время врать? — спросил Петя.
— Не знаю. — Она растерянно улыбнулась, точно глухая. Одними губами, без зубов.
Петя рванулся, навалился, припал, она ахнула и опала, и рот ее открылся на милость чужому языку.
Он лизал ее губы и зубы под губами, и мял ее груди, и не отпускал ее, сжимая соски между большим и указательным.
— Подожди… — клекотала она, суетно расстегивая синюю рубашку. — Стой. — В быстром клекоте проснулся сильный акцент, птичий выговор, садовое и лесное. — Мил, мил!
Она взлетела, роняя рубаху.
Петя, дыша в душистое, горячее бесконечное горло, в загнанную, но веселенькую жилку, разомкнул бюстгальтер за спиной. Пластмассовая застежка щелкнула о паркет. Гладкие холодные лопатки. Ему почудилось, что он в соборе поднялся к самому куполу.
Она показала выгнутую спину и оттопыренную попу и ловко стянула брюки. Переступила через них и оказалась в красных трусах. Застучала пятками прочь.
— Я в ванную! — скороговоркой на скаку.
Зазвенел колокольчик, зашумела вода. Петя разделся, свалил тряпье на кресло. Голый, прошествовал в комнату. Все виделось ему огромным. Постель белела снежным полем с пола. Он ступил в нее, попробовав ногой. Зевнул нагло, трескуче. Растянулся, сцепив руки на затылке. Белье холодило.
Высоцкого заело. Он никак не мог допеть про друга, который оказался вдруг. Песню ломало, а Петя лежал и думал: я скользил по собору, я залез в кабинку для исповеди, я спал в самолете, и снился мне великан, и не ведал я и не гадал, что буду лежать обкуренный на полу у Люси перед тем, как она выйдет из ванной, и мы совокупимся. А каких-то десять лет назад я ходил в школу и не знал, что в городе Париже маленькая зубастая Люси и ее сестра Катрин бегают и ушибаются на деревянной, тогда еще свежей и не скрипучей лестнице, но уже тогда, если верить в судьбу, а я верю, с этой зубастой Люси судьба мне назначила совокупиться.
«Какая все это!.. Что? Ты сам знаешь, что…
![Александр Кудрявцев - Я в Лиссабоне. Не одна[сборник]](https://cdn.my-library.info/books/113008/113008.jpg)